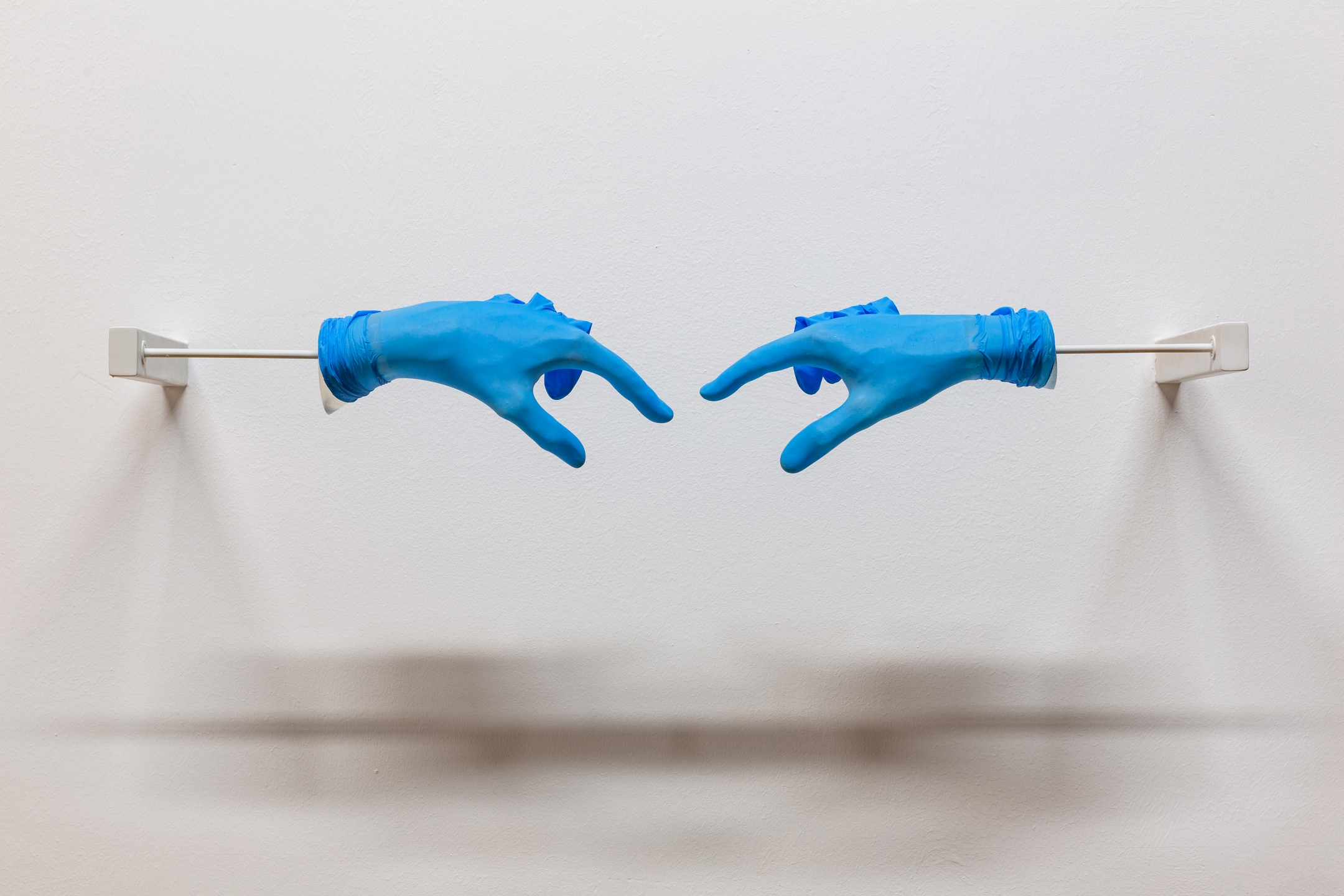Текстовая расшифровка лекции «Зритель как соавтор» Александры Першеевой.
Для этого мы будем использовать понятия, которые приняты в теории современного искусства. И время от времени будем делать небольшие шаги назад, в прошлое. Нам пригодятся следующие термины, которые сейчас вы видите на экране: иконоборчество, зрелище, соучастие и посредничество. Я специально вывела их на английском языке, потому что в профессиональной литературе эти слова часто встречаются в виде транслитераций: iconoclasm, spectacle, participation, mediation. Сегодня мы посмотрим, что эти понятия означают в поле современного искусства и каким образом они могут помочь нам понять, какое место зритель занимает в этом поле.
Сегодня мы поговорим о том, как зритель может стать соавтором художника в поле современного искусства. Меня зовут Александра Першеева, я кандидат искусствоведения и преподаватель Школы дизайна в Высшей школе экономики, где мы очень часто дискутируем о том, каковы взаимоотношения между автором и зрителем, между художником и аудиторией, какое место теоретик, куратор занимает в этом поле. И, скажу сразу, эти отношения постоянно меняются, и мы попробуем рассмотреть их в динамике.
Начнем мы с первого из этих понятий — iconoclasm (иконоборчество). Что имеется в виду? Когда теоретики начиная примерно с 1960-х годов активно стали упоминать это понятие в профессиональной литературе, речь шла не о борьбе с образами вообще, не о борьбе с образами религиозного характера, как это было в Средневековье. Скорее речь шла о борьбе с очень высоким статусом арт-объекта. Это была история про то, что мы должны снять произведение искусства с некоего воображаемого пьедестала и преподнести его зрителю в более демократичной форме, чтобы зритель мог ощущать себя равноправным с произведением и с художником, чтобы он имел право на собственное мнение, собственную позицию и в том числе на собственную интерпретацию.
Именно такой подход к роли зрителя был озвучен Роланом Бартом в его знаменитом эссе «Смерть автора» (1967), где он говорит о том, что романтизированная концепция художника-гения, порождающего смыслы, которые иначе мы никогда не смогли бы узнать, важна, значима для нашей культуры, но при этом несколько преувеличена. Барт говорит о том, что эту гениальность автора можно немного поставить под вопрос хотя бы потому, что автор на входе берет инструменты художественного языка, которые были разработаны до него. Любой писатель обращается с грамматикой, словарем, набором жанров и стилистических приемов, которые уже существовали. И автор скорее превращается в «великого комбинатора», который может в среде этих более или менее устоявшихся знаков вытащить нечто новое: новые сочетания, новый подход, новый сюжет — и создать ту атмосферу, в которой читатель сможет прочесть нечто, глубоко его затрагивающее.
Нужно сказать, что художники уже в 1960-е годы действуют в такой парадигме. Очень часто мы можем говорить о том, что искусство шестидесятых становится более процессуальным. То есть в нем меньше ориентации на создание конкретного объекта и больше ориентации на создание интересной ситуации или какого-то длящегося процесса, в который зритель может включаться. Вот в случае с работой Кэтрин Элвз «Открытка» (1986) — это запись чуть больше четырех минут, на которой мы видим, как художница переодевает, пеленает своего ребенка, и ребенок при этом, естественно, вопит, вырывается, насколько это возможно, протестует. Кэтрин Элвз показывает нам этот абсолютно будничный процесс, у которого есть четкие границы, но при этом мы можем прекрасно почувствовать, что находится за границами этого самого кадра, мы можем понять, что это лишь часть ее материнских обязанностей, которые не ограничиваются четырьмя минутами, а простираются на много лет, пока мать заботится о своем ребенке.
Интересно, что художница создает очень лаконичный образ, очень простой — всего один кадр, но при этом воздействие на зрителя она может оказывать очень многомерное. Мы сразу можем определить, о чем это видео, подгрузив свой жизненный опыт. С другой стороны, мы можем припомнить какие-то более глубокие культурные пласты, мы можем поговорить о том, что это образ материнства как такового. И это такая интеллектуальная работа, которую мы проделываем. Возможно, у вас появились бы еще какие-то дополнительные ассоциации.
И если сделать опять-таки шаг назад в истории зрительства, то можно очень ясно понять, в чем именно эта новизна состоит. Борис Бернштейн в своей замечательной книге «Беседы о зрителе» (2015) прослеживает такую генеалогию зрительских позиций от Древней Греции до XIX века. И если вытащить одну из идей этой книги, то можно сказать, что в классический период существования искусства зрителю всегда предлагалась роль скорее пассивная, роль того, кто должен воспринять искусство как откровение, как истину, добро и красоту, порой как чудо. Здесь мы видим очень интересное сочетание: с одной стороны, зритель должен ощущать явление образа Богоматери с младенцем Христом как чудесное, miracle, а с другой стороны, это изображение должно зрителя убеждать на чувственном уровне. Для того, чтобы вера приобретала более глубокий, более личный характер.
Интересно, что именно мозаика в соборе Святой Софии в Константинополе создавалась после периода иконоборчества, когда Византию всколыхнул очень серьезный конфликт между иконопочитателями и иконоборцами. Вторые считали, что максиму «Не сотвори себе кумира» надо понимать буквально. Примерно после полувека раздора иконопочитатели все же побеждают — и в Святой Софии, в главном храме Константинополя, появляется эта мозаика. Она занимает очень выигрышное положение — она находится в конхе апсиды, священном пространстве. И она, с одной стороны, очень лаконична, проста, убедительна, масштабна. С другой стороны, очень много нюансов есть в этом изображении, много тонких деталей. Есть предположение ученых, что эта мозаика изначально создавалась по прототипу из книжной миниатюры, именно поэтому в ней так много, с одной стороны, детализации и, с другой стороны, вот этого чувственного, что убеждает нас в живом присутствии Богоматери, как будто она реальная женщина, находящаяся перед нами. Хотя, конечно же, мера условности здесь очень высока: золотой фон, сияние, трансцендентальное состояние. Здесь зритель находится в позиции того, кого осеняет этот свет, в позиции смиренного, восторженного, созерцающего чудо.
Ансельм Кифер. Зимний путь. 2015-2020. Инсталляция. Холст, дерево, масло, акрил, шеллак, уголь. Объекты: свинец, металл, цинк, смола, дерево, обожженные книги.
Фото: Юлия Захарова / Третьяковская галерея
Когда мы работаем с иллюзионистскими произведениями искусства, мы должны понимать, за счет чего эта иллюзия возникает, зритель как бы должен уже на входе принять эти правила игры и свою субъективность встроить в ту модель, которую ему предлагает художник. И вот это ощущение встраивания взгляда в заранее прочерченный рисунок хорошо можно заметить в случае, если художник ставит эту ситуацию под вопрос. В работе Ансельма Кифера «Зимний путь» (2015–2020) мы видим именно это.
Это инсталляция, которая изначально напоминает нам классическую картину, она похожа на сценическую площадку, как у Никола Пуссена, Клода Лоррена или Жака-Луи Давида. Сценическая площадка с неглубоким пространством, где очень четко видно передний, средний и дальний планы, где создается эта самая иллюзия, в которую мы должны погрузиться. Но при этом это не живопись, это инсталляция, а значит, если мы сделаем шаг в сторону, иллюзия не распадется, она просто обнаружит себя. Таким образом Ансельм Кифер очень хитро, очень тонко, именно на чувственном уровне деконструирует классическую картину, в его случае, конечно же, картину эпохи романтизма. И вместе с целым картины ставится под вопрос и целое, которое стоит за картиной. Потому что изображение ни в коей мере не нейтрально. Еще Эммануил Кант говорил о том, что эстетическое восприятие — это не просто ощущение, это не просто история про вкус, что кому-то нравится, а кому-то не нравится, это история про определенную свободу, с одной стороны, свободу ощущения, свободу переживания, свободу погружения в художественный образ и активации внутренних познавательных способностей, и, с другой стороны, эта самая свобода есть экспериментальная площадка, на которой субъект — субъект осознанный, субъект эпохи Просвещения, субъект, который отдает себе отчет в законах жизненного мира — проверяет свои силы. И картина эпохи романтизма всегда имеет некоторый политический заряд — это картина, которая нас вдохновляет, которая подталкивает нас к действию, особенно если мы говорим про немецкий романтизм.
Кифер позволяет картине слегка расслоиться, он позволяет ей обнаружить искусственность собственной конструкции и через это искусственность, сконструированность тех смыслов, которые классическая картина транслирует. В данном конкретном случае идет речь о критике романтизма с точки зрения того, с чем он в итоге оказался связан, — искусства тоталитарной Германии, которая в значительной степени присвоила себе эту романтическую парадигму и использовала ее как средство манипуляции. Кифер позволяет этому рассыпаться в буквальном смысле у нас на глазах.
Интересно, что картина — очень устойчивая форма. Она настолько укоренена в нашей культуре, что поспорить с парадигмой, заданной прямой перспективой, оказывается очень сложно. И даже когда художник делает этот центр пустым, как это сделал Фрэнк Стелла, даже в этот момент зрителю не удается до конца освободиться от зрительской привычки стать ровно, смотреть прямо в точку схода, и так далее.
Для того чтобы зрителя по-настоящему раскрепостить, вовлечь его, чтобы он немного отстранился от состояния зрителя, поглощающего зрелище, и включился в соучастие с художником, в диалог с художником, нужно приложить некоторые усилия. Что это может быть? Один из самых эффектных ходов, позволяющих разбудить в зрителе такую проактивность, — это ситуация когнитивного переполнения, когда зритель не может узреть все. Что базово дает нам прямая перспектива? Она дает нам ощущение того, что мы видим целиком все что нужно. Картина гармонично организована для нашего взгляда, и если мы правильно входим в это пространство, то оно открывается перед нами как некая истина.
Похожим образом действует классическое кино, только там это делается в масштабе не статичного изображения, а в диалоге движущихся изображений, которые переходят друг в друга посредством монтажа. Когда нам показывают один кадр, мы уже задаемся вопросом: а что же там? И следующий кадр приходит на помощь, давая нам ответ. Классический фильм — это такое произведение искусства, которое дает ощущение целостности, ясности, в котором есть начало, середина, заключение, и в эту окружность, в эту сферу вложен весь смысл, который нам как зрителям необходимо уловить. И это очень успокаивает, дает ощущение зрительского могущества: мы все знаем, мы все увидели, мы все поняли. В жизни так не бывает, в кино — сколько угодно. Более того, если режиссер, предположим, не дал нам ответы на какие-то вопросы или если в драматургии есть какая-то неувязка, мы с полным правом говорим о том, что это неудачная кинокартина, что она не додумана, не доработана. Потому что мы привыкли к абсолютной смысловой завершенности.
Это успокоительное действие и кино, и средств массовой информации, которые тоже стремятся рассказать нам целостную историю, это то, что ставил под сомнение, в частности, Ги Дебор в своей работе «Общество спектакля» (1967). Ги Дебор пишет о том, что средства массовой информации и массовая культура в целом создают между зрителем и социальной действительностью некую медиапрослойку, в которой события представляются в виде некого зрелища. Общество спектакля (spectacle) — это, по большому счету, общество зрелища. Мы все события воспринимаем медиатизированно, через посредников. Мы реже выходим на улицу посмотреть, что там происходит, мы скорее посмотрим новости, почитаем газету, откроем ленту соцсетей. Ги Дебор указывает на опасность такого положения вещей. Он говорит о том, что зрелище — срежиссированное, структурированное, такое завершенное зрелище — оставляет зрителя абсолютно пассивным, зрителю нечего добавить, зритель должен просто воспринять.
Представьте себе, что вы попадаете в инсталляцию Агнешки Польска. Вас окружает четыре экрана, на них вы видите проекцию разных изображений — они составляют целостный микрокосм произведения, находятся в диалоге друг с другом и с вами. Но вы как будто не можете поддерживать этот диалог, разрываясь между четырьмя экранами, ведь ваш взгляд способен воспринимать лишь один экран. И что происходит? Зритель начинает крутиться на месте, пытается успеть посмотреть и это, и то, и то, что за спиной, но в итоге картинка все равно получается подобной мозаике, она складывается случайным образом, потому что у нас лишь одно поле зрения, лишь два глаза, а здесь понадобились бы восемь. Нам это дает очень яркое переживание невозможности понять все единственно правильным образом. И это свежее, ободряющее чувство. Оно позволяет мобилизоваться внутренне, позволяет зрителю поставить под вопрос вещи, которые прежде ему казались однозначными и понятными. Может быть, та картина мира, которая у него сформировалась прежде, была сформирована какими-то очень узкими медиа? А если немного расширить свое восприятие, включить не один экран, а множество? Тогда мы окажемся в состоянии мира, в котором нет Истины, а есть некоторые процессы, за ходом которых чрезвычайно сложно уследить. Но при этом редуцировать мир какой-то одной простой схемой — интересно ли это нам? И мы как зрители можем задаться этими вопросами в пространстве инсталляции.
Это один механизм вовлечения — достаточно мягкий и простой. Здесь зритель ставит эксперимент внутри собственного сознания, собственной субъективности. Но для того, чтобы зритель по-настоящему ожил в пространстве искусства, художнику иногда приходится идти на более хитрые уловки. Все мы с детства знаем, как надо ходить в музей или на выставку. Знаем, что надо вести себя хорошо, говорить тихо, внимательно смотреть и проникаться прекрасным. Через это мы как раз и ощущаем дисциплину, которая хороша, потому что искусство требует к себе уважительного отношения. Но может быть, возможны какие-то другие ходы, другие способы коммуникации, другие способы встраивания в это пространство знаков? Но расшевелить зрителя, чтобы он вышел из состояния замкнутости, довольно сложно.
Марсель Дюшан уже в 1913 году прекрасно это понимал. Скажу честно, когда я в первый раз встретилась с его колесом в экспозиции, я не решилась дотронуться до него и почувствовать это удовольствие визуальной, абсолютной свободы, к которой как раз и подталкивает нас Дюшан. Он говорит: искусство дает очень особое переживание, но особость этого переживания не обязательно лежит внутри самого шедевра, это наслаждение, которое мы испытываем от искусства, связано не только с его прекрасной формой, форма может быть простейшей и не особенно прекрасной — просто колесо. Но, когда мы внутренне настроены как зритель на этот эстетический режим, вращение колеса действительно может вызвать очень яркое эстетическое переживание.
В 1960-е было много проектов подобного плана. Сейчас бы мы сказали «иммерсивных», то есть связанных с погружением зрителя в активное взаимодействие с той средой, которую создает художник. Алан Капроу в этом смысле чемпион. Он создал немало хепенингов, инсталляций, в которых зритель обязан был принимать участие. Потому что, когда вы попадаете, например, в инсталляцию «Двор» (1961), вам ничего не остается, кроме как карабкаться, прыгать по этим покрышкам, которыми художник в буквальном смысле завалил все пространство. Вам ничего не остается, кроме как выйти за пределы дистанцирования и включиться. Participation — участие, соучастие, включенность — это то, что с большим интересом исследуют художники начиная с 1960-х.
Крис Берден пошел еще дальше. Он был художником, который ставил под вопрос еще более устойчивые структуры нашего сознания. Он так же, как Марина Абрамович, как Вито Аккончи, относится к поколению довольно радикальных перформеров, которые были готовы в буквальном смысле все поставить на карту. И вот взгляните, в какое положение Крис Берден ставит своих зрителей. Он находится в зале галереи, под стеклом, и на входе он задает такие правила: «Я буду находиться под этим стеклом и никоим образом не взаимодействовать с внешним миром, и любое взаимодействие с внешним миром будет означать конец перформанса, то есть, по сути, разрушение произведения искусства». Но что означает эта бесконтактность? Это означает, что он не пил, не ел, не двигался в течение всего перформанса. Он лежал под стеклом на протяжении 45 часов. А зрители были в состоянии сконфуженности, потому что было непонятно, какую позицию занять. С одной стороны — лег, пожалуйста, лежи, а с другой стороны — он живой человек, его жизненные силы иссякают. Специально на стене были размещены часы, которые помогали подсчитать, какое количество времени художник подвергает себя аскезе. По языку тела зрителей видно, что они напряжены и не очень понимают, как правильно повести себя в этой ситуации: разрушить произведение и спасти художника? Этот перформанс мог бы закончиться реальной смертью автора, но был все-таки человек, у которого человеческое возобладало. И интересно, что этим человеком был смотритель выставки, охранник, который на 45-м часу перформанса поставил воду рядом с Крисом Берденом, и таким образом перформанс был завершен.
История про взаимодействие в зоне перформативных практик развита наибольшим образом. Перформативные или акционистские практики бывают очень разными. Бывают жесткие, политизированные, суровые практики. Бывают практики, наоборот, очень деликатные, мягкие, которые настроены скорее на эстетику повседневного, на анализ того, как мы на человеческом уровне взаимодействуем друг с другом и с искусством.
Рикрит Тиравания — один из художников, которые наиболее заметным образом действуют в этом смысловом поле, потому что он не создает вообще никакого объекта искусства. В «Галерею 303» в Сохо он принес холодильник, газовую горелку, тарелки, кастрюли, специи, продукты — и стал варить суп по своему родному рецепту из детства. И этим супом просто угощать зрителей, которые приходили в галерею. Там больше ничего не происходило, там будто бы не на что было смотреть. Не было объекта, перед которым нужно было чинно встать и начать постигать его сакральный смысл. Был процесс. Зритель приходил — и он уже был как бы не зритель, он был просто человек, который встречается с другими людьми, с которыми в каких-то иных обстоятельствах он бы никогда не встретился и не познакомился. И можно было присесть за стол, поесть этого замечательного согревающего супа рядом с незнакомцем и поговорить по душам. И вот такую простейшую вещь Тиравания выносит на первый план, говоря о том, что искусство делает нас лучше как людей. И для этого необязательно конструировать какие-то невероятные религиозные образы на стенах. Это может быть и очень простой жест, который просто дает нам чуть больше ощущения того, что мы живы, и того, что мир, возможно, не самое плохое место для жизни.
Об этом радикально демократичном повороте много писал Николя Буррио в своей работе «Эстетика взаимодействия», ее еще называют «Реляционная эстетика» — Relational Esthetics. То есть объектом художественного делания, созерцания становится взаимоотношение. Причем необязательно между художником и зрителем, это могут быть взаимоотношения между зрителями, для которых художник просто создает некоторую площадку. Это такая, как пишет Буррио, временная коллективная форма, в которой внутреннее творческое начало каждого человека, о котором говорил еще Йозеф Бойс — «каждый человек — художник», — это внутреннее может выходить наружу, оно может быть явленным в таких простейших обстоятельствах.
Интересно, что в современном искусстве понятие «взаимодействие» трактовать можно очень широко. Если взять последние пару десятилетий, то мы можем обнаружить, например, актуализацию такого художественного направления, как Art & Science, — это инсталляции, объекты и опять-таки процессы, в которых встречаются субъекты человеческие и нечеловеческие. И такими нечеловеческими агентами, с одной стороны, могут быть алгоритмы, какие-то сущности цифрового мира и, с другой стороны, живые создания — просто непонятные нам: моллюски, грибы, лес, плесень, даже генетический материал. И художник вступает во взаимодействие с этими сущностями — для того, чтобы лучше понять мир, в котором мы живем, для того, чтобы более уважительно, более деликатно относиться к этим существам как к нашим сородичам. И для того, чтобы через это опять-таки стать больше человеком.
Конечно же, эта эстетика взаимодействия, эта концепция не остается без критики. Критика постоянно подталкивает нас вперед. И в частности, подталкивает нас вперед в размышлении о роли зрителя и о том, что за качества мы можем приобрести, будучи зрителем-соучастником.
Многие произведения искусства, которые активно включают зрителя внутрь себя, сталкиваются с подобного рода критикой. Например, когда Олафур Элиассон делает замечательный проект «Погода» — еще один вариант того, как художнику удается работать с колоссальным, гигантским пространством Турбинного зала Тейт Модерн. С одной стороны, отличная вещь: солнце, которое светит на нас, и зрители, которые растворяются в этом очаровательном сиянии. Но, с другой стороны, критики указывают на то, что художник превращает зрителя в свой медиум, инструмент, материал. До конца ли это этично? До конца ли хороша ситуация, в которой зритель становится не просто соучастником, а маленькой фигуркой в грандиозной картине, созданной художником?
Те же вопросы, только еще более заостренно, вызвала инсталляция Ай Вэйвэя «Семена подсолнуха». Это очень серьезная с точки зрения высказывания работа, где Ай Вэйвэй в буквальном смысле засыпал семечками подсолнуха гигантское пространство Турбинного зала Тейт Модерн и зрители должны были по ним ходить. Я говорю «должны были», но у них просто не было другого варианта, потому что, как только они попадали в экспозицию, у них под ногами сразу же обнаруживалась эта фарфоровая поверхность. Потому что эти семечки, они лишь изображают семена подсолнуха, но на самом деле это крохотные фарфоровые фигурки, вручную вылепленные и расписанные китайскими умельцами. Такие семечки на самом деле производятся в Китае в колоссальных масштабах и могут использоваться, например, как чайные фигурки. Мне доводилось в одном чайном доме такие видеть, они просто красиво, декоративно располагаются на чабани — чайной доске. Но суть в том, что Ай Вэйвэй показывает вот эту мощь производственных сил Китая, которые порой оказываются обращены на что-то, что, может быть, и не стоило производить. Может быть, не стоило создавать сотни тысяч фарфоровых семечек, по которым британцы и гости британской столицы будут ходить, ломая их? И зритель в данном случае оказывается в роли колонизатора, который видит плоды трудов бывшей колонии в буквальном смысле у себя под ногами, он попирает ногами такую красоту, и другого варианта у него нет. Очень неловко.
Там был еще один интересный аспект, связанный с позицией зрителя. Дело в том, что зрители, ходя по этим семечкам, их, разумеется, ломали — и поднималась фарфоровая пыль. Поэтому кураторы были в конце концов вынуждены ограничить пространство инсталляции для того, чтобы зрители не могли наступать на эти семена. И с одной стороны, испортили работу. А с другой стороны, для зрителя это было скорее облегчение.